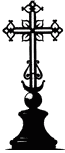БОГОСЛОВИЕ ОБРАЗА
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО СИНОНИМИЧНОСТИ СЛОВ
«ПРАВОСЛАВИЕ» И «ЦЕРКОВЬ»
То, что будет сказано, является некоторой информацией к размышлению. Мы, на мой взгляд, не до конца используем очень глубокий и мощный потенциал, который заключает в себе апологетический аспект церковного искусства во всей его полноте. Говорим всегда уже о последствиях искажения богословия, отражённых в том или ином характере проявления церковного искусства. Но дело состоит в том, что можно идти и обратным путем. Можно все наличие художественного материала из наследия мировой христианской культуры использовать как своего рода индикатор, который мог бы нам что-то указать и о чем-то заставить задуматься. В связи с этим хотелось бы сказать о вещах достаточно очевидных и ясных, рассчитывая не на оригинальность сказанного, а на то, что эти вещи окажутся соединенными вместе.
Во-первых, стоит еще раз обратить внимание на общеизвестный факт, что полнота учения об образе неотделима от полноты православного богословия. Там же, где мы видим какую-либо ущербность собственно богословия, мы обязательно увидим ущербность в теории образа. Это достаточно общее место, но важно эту их прямую соотносительность рассмотреть не только в теоретическом, но и в визуальном аспекте. Начнем с теоретического, а потом обратимся и к практическим примерам.
Даже если бы мы хотели с самой простой катехизаторской целью изложить теорию образа, то осознали бы, что нам не хватает в этом случае определений VII Вселенского Собора. Там много интересного и крайне необходимого, но далеко не все, что можно сказать по этому поводу. Поэтому нам придется обратиться и к временам тринитарных и христологических споров – и вообще ко всему наследию золотого века патристики, а также к учению преподобного Иоанна Дамаскина, и патриарха Германа Константинопольского, и преподобного Феодора Студита, и, конечно, последующих отцов, которые жили в более позднюю эпоху, как, например, святителя Григория Паламы. Я хочу сказать, что мы не сможем объяснить стройно, ясно и четко все, что касается теории образа, если ограничимся фрагментарным подходом, даже если это будет система образов преп. Иоанна Дамаскина или том деяний VII Вселенского Собора — всё будет недостаточно. Только на основе всецелого духа Предания, конкретизирующего собой все аспекты христианского богословия, возможна полная и ясная картина, а именно учение об образе, фундаментом которого выступает христологический догмат Халкидонского Собора вместе с неотъемлемым от него триадологическим учением.
Итак, если мы помним, определение VII Вселенского Собора начинается со знаменитой преамбулы о том, что воплощение Бога Слова является основанием для существования священных образов. Второе очень важное догматическое определение касается вопроса о том, что обращающийся к священному образу, обращается именно к Ипостаси изображенного. Поскольку ипостась в отличие от природы, как это прекрасно показал преп. Феодор Студит, только и может быть изобразимой через «характир» (отпечаток «внутреннего образа»). Но, если начать объяснять человеку незнающему о том, как изображается Спаситель (возникает тут каверзный вопрос – по какой природе), придётся объяснить, что здесь запечатлена Ипостась Сына Божия по Его человеческой плоти, включенной в Ипостась по причине подлинности вочеловечения. Опять же задаваясь вопросом о природе иконопочитания, почитающего в рукотворном образе Самого Господа, мы не сможем обойти стороной учение о нетварных энергиях, присутствующее в писаниях отцов от самого начала, но в большей полноте, конечно, сформулированное позднее. Его можно найти и у Каппадокийцев, и у преподобного Симеона Нового Богослова, и у святителя Григория Паламы. В совокупности всех аспектов православного богословия мы имеем целостность учения об образе. Ведь и праздник Торжества Православия — это праздник торжества иконопочитания.
Теперь, если посмотреть на те христианские общины, которые зримо и отчетливо не содержат в себе подобного понимания церковного образа, а зачастую полностью отвергают его возможность и необходимость для веры и богословского учения, то будет небесполезно сопоставить данный факт с их учением об иконопочитании, если оно есть, а его уже с конкретной практикой, воплощенной в церковном искусстве.
Помимо теории есть еще и факт реальной жизни Церкви в реальном литургическом опыте, к которому и относится церковное искусство. Если мы даже не всё имеем сформулированным, то есть практика. Так было в Древней Церкви до того, как были определены многие положения иконопочитания. И наоборот, как, например, было в Западной Церкви до ее полного отделения от Православия. Хотя там существовали такие вещи, как весьма своеобразные решения Франкфуртского и Парижского Соборов, но, тем не менее, эти странные решения не изменили общего характера религиозной жизни Запада и его искусства до того, как на практике не произошло разделение. Это был очень интересный момент.
Но, давайте, начнем не с Запада, а начнем с Востока – с монофизитства. Есть такая замечательная культура — культура Армении. Её многие из нас знают и любят. Я сам с большим пиететом отношусь ко многим её проявлениям, в особенности, к армянской архитектуре. Но в то же время есть определенный факт, на который мы не можем не обратить внимание. В армянском искусстве во всем его диапазоне – от пуговицы на облачении до архитектурно-ландшафтных комплексов – мы увидим совершенно определенный изъян в двух позициях. Это, во-первых, отношение к моленной иконе, во-вторых, отношение к монументальной живописи. Если моленные иконы и есть, то их слишком мало, а стенопись, если есть, то есть в тех храмах, которые, как правило, либо напрямую халкидонские, т.е. православные, либо испытавшие влияние со стороны Византии. Получается очень интересный факт: в соседней Грузии, которая в чем-то имеет похожее по характеру искусство, есть все эти позиции – есть и моленная икона, есть и монументальная живопись, а в Армении почему-то этого почти нет. Невольно призадумаешься, почему это так? Этот факт сопрягается с другим — богословским, который нам говорит о наличии некоего скрытого иконоборчества в монофизитстве. Это скрытое иконоборчество широко не декларируется, если представителям Армянской церкви сказать об этом, они скорее всего обидятся. Для краткой справки я рекомендовал бы посмотреть последние главы всем нам хорошо известной книги А. Карташева «Вселенские Соборы». Там очень коротко и четко обозначена позиция скрытого иконоборчества в Армянской церкви. Там же, кстати, можно найти и информацию о западной ситуации в связи с неправильным пониманием богословами Аахенской школы и их последователями решений VII Вселенского Собора.
Так вот, это – факт. При всей изысканности характера армянского искусства, умении мастеров живописи замечательно работать, что в первую очередь сказалось на качестве книжной миниатюры, невозможно не заметить определенный изъян в тех отношениях, о которых мы говорили, в прямой связи с теоретической основой.
Посмотрим в противоположную сторону. Не только отвержение богословами Аахенской школы решений VII Вселенского Собора, путаница в терминологии в вопросе о различии почитания и поклонения, но и целый ряд других позиций важен для понимания западной ситуации. Например, отсутствие богословской адаптации Западом решений Трулльского собора и вытекающее отсюда игнорирование его знаменитого 100-го правила, которое однозначно говорит о том, что чувственность не должна присутствовать в священном образе. Речь идет вовсе не о языческих изображениях, заметим, но правило совершенно определенно говорит о том, что христианский образ не должен носить чувственного характера. Я хотел бы подчеркнуть, что все-таки и в дороманское время, и в романский период западное искусство замечательно предъявляло себя в тех рамках, которые мы можем назвать условно, я подчеркиваю – условно, каноническими. Так утверждать нам позволяет наше интуитивное чувство, которое говорит о том, что это искусство все-таки сродни тому искусству, которое было в Византии. Стилистический характер, конечно, другой, но он имеет на это право. Что же последовало по истечении примерно ста лет после разделения Церквей, мы тоже отчетливо видим. Появляется первое, чисто западное явление — Готика, хоть она, как прекрасно показал Э. Панофский в своих работах, тоже имеет восточнохристианские корни через увлечение аббата Сугерия «Ареопагитиками». Тем не менее, это первое западное по своему характеру явление, заключившее в себе такие вещи, которые стали основой для дальнейшего динамического развития западного искусства. В большей степени это касается не воспринятого в изобразительную практику и неосмысленного с богословской позиции всерьез 100-го правила Трулльского собора, возможно позволившего бы остановить подобную динамику искусства на франкском Западе, которая в итоге привела к разрушению сакрального образа как такового. Совершенно поразительная вещь! С точки зрения светской искусство, благодаря мастерам периода Возрождения и более позднего времени, конечно, развивается в самые дивные формы, сами по себе достойные восхищения. Но не стоит забывать о том, что, уже начиная с XIX века, религиозная тема вообще стала не только не важной, она почти сошла с исторической арены. Есть, конечно, ряд подвижников, мастеров искусства, о которых мы можем вспомнить, но это не типичное явление для позднего западного искусства. В ХХ веке — и мы должны признать это — повсеместно наблюдается элементарное разложение формы. Мне, как человеку, имеющему отношение к Академии художеств, приходится констатировать такой факт: приезжают с Запада современные мастера изобразительного искусства и удивляются, что у нас в России сохранилось то реалистическое искусство, которым Запад дорожил когда-то, и которое было высочайшим его достижением в изобразительном плане, но теперь и его там уже нет, за исключением отдельных случаев. Изобразить человека с портретным сходством для западного художника — большая проблема. При этом православная художественная традиция, которая не ставила во главу угла реалистическое искусство, тем не менее, сумела сохранить и это искусство как некое светское достояние у себя. Это тоже свидетельство, о котором можно говорить в положительном плане, как относящемся к изобразительному искусству в точном смысле этого слова.
Теперь нужно сказать и о творчестве, которое сопряжено самым тесным образом с искусством изобразительным. Я хочу поразмышлять об очень интересной вещи – о разном характере формирования архитектурного пространства в связи с различным религиозным мировоззрением. Это очень интересная тема. Приходиться только сожалеть, что когда ей занимаются искусствоведы, то редко получается выстроить некое единое целое, вбирающее в себя богословский взгляд (можно здесь вспомнить о. Павла Флоренского, позднее Э. Панофского). Если говорить в общем, то достаточно просто сопоставить разные типы пространства. Вот, например, иконоборческий Ислам. Он имеет очень интересное пространство своих архитектурных сооружений, вполне ритмически организованное, но этот ритм скользит и никуда не направлен. Это заметно и в большом ритме опор архитектурных, и в ритме орнамента трех типов — геометрического, растительного и шрифтового. Это очень контрастный пример по отношению к другой ситуации – ритму организации христианского храма, который имеет ярко выраженную направленность. Ритм идет от входа в базилику к её алтарной части. Если мы возьмем двухфокусный византийский храм (геометрически двухфокусный), то здесь наряду с этим прямым движением, мы увидим еще и движение круговращательное. Но эта круговращательность никак не помешает направленному ритму в отличие от исламских построек. Когда исламские постройки копируют в Турции Святую Софию, то приспосабливают ее внутреннее движение на свой лад, а не так, как это принято в христианском зодчестве. Это тоже некий показательный момент, который невольно заставляет нас умолкнуть с какими-то теоретическими аргументами, а просто посмотреть и увидеть. Все это, со своей стороны, контрастирует с языческим восприятием пространства, например, возьмем классический Парфенон. Это – такая «архитектурная скульптура», которой можно любоваться сколько угодно. Но внутреннее пространство здесь вторично. В христианском же храме, конечно, литургическое пространство будет основой. И любые строительные достижения в христианском городе будут средствами развития этого литургического пространства изнутри вовне. Но это опять-таки ритмически направленное пространство, оно внутри направлено к алтарю, а извне направлено к храму.
Если мы говорим о связях архитектуры и изобразительного искусства, то применительно к иконе опираемся на классическое наследие по систематизации образов у преп. Иоанна Дамаскина и вспоминаем о её эстетическом, педагогическом и сакральном значениях, но к третьему надо добавить и особо оговорить аскетический аспект иконы, действительно, очень важный момент. Этот аскетический аспект непременно декларируется, но очень важно понять, насколько он органично связан с храмовым пространством. Дело в том, что ранние иконы, энкаустические, например, все-таки имеют некоторые античные реминисценции, стилистически в то время стенопись носила гораздо более строгий характер и иное пространственное построение. В иконе это появляется чуть-чуть позднее – в средневизантийское время этот характер уже безусловно присутствует. О чем это говорит? Думаем, о том, что живопись, которая лучше связана с храмовым пространством, больше помогает молящемуся не «улететь» мыслью куда-то, как это бывает при разглядывании пейзажа, если даже там изображен вполне благочестивый сюжет, а вернуться сюда – обратно в данное литургическое пространство (единое и единственное по своему смыслу). Как в аскетическом плане отцы не советуют воображать идолов, пользуясь естественной способностью фантазии, точно так же и мы не должны творить их с помощью живописных произведений, и икона помогает произвести такой тормоз, вернуть нас обратно. В этом контексте все, что можно сказать и об обратной перспективе, и о характере построения вообще пространства — и в монументальной живописи и в иконе — носит еще и аскетический характер. С другой стороны, это лишний раз подчеркивает связь между архитектурой и живописью, но не вообще архитектурой, а той архитектурной формой, которая реализована по принципу построения пространства, свойственного христианскому храму вообще, и его двухфокусной структуре, в частности.
Все эти положения, разбросанные как некая мозаика, на мой взгляд, могли бы быть выстроены в единую систему. В этом случае они послужили бы наглядным свидетельством размышлений на весьма деликатную тему, по поводу которой я не дерзну высказывать резких суждений, хотя у меня, конечно, есть свои соображения, — это вопрос о границах Церкви. Для меня нет никаких сомнений, что факт полноты богословия образа, с одной стороны, и факт полноты православного богословия, с другой стороны, оба органично сосуществуют. Их общим нервом, единым образующим полем является учение о нетварных энергиях. Уже было сказано о фундаментном характере для учения об образе христологического догмата. Действительно, если мы не будем правильно воспринимать эту определенную равновесность, заданную христологическим догматом, то мы, к великому сожалению, уклонимся от верного восприятия богословской истины, и, как следствие, потеряем ориентир в практике. Давайте посмотрим. Монофизитство не имеет христологического равновесия, и у них — явный перекос в плане изобразительного искусства. Что же касается Запада, то здесь наряду с моментами, определенными формально каноническим характером, о которых мы говорили, есть и догматические проблемы. Неформально 100-е правило тоже к ним относится, ибо излишняя чувственность образа, нетронутая преобразованием Духа – результат христологического перекоса. За ним стоит неразличение божественной природы и нетварных энергий (отсюда невозможность объяснить, как в иконе присутствует благодать и как молящийся может быть облагодатствован через священный образ). Факт довольно печальный, оставивший внушительный след на западном богословии. Здесь я хочу вспомнить книгу кардинала К. Шёнборна «Икона Христа», которая является лучшей из всех книг о богословии образа, написанных на Западе, но, тем не менее, вынужден отметить одно существенное обстоятельство: при всей своей симпатии к Православию и глубоком знании отцов, автор опять-таки страдает тем, что не может окончательно и четко сформулировать учение о природе и энергиях и обосновать в связи с ним практику иконопочитания. Из-за этого «чего-то» не хватает в книге католического богослова.
Мне как-то пришлось беседовать с одним французским епископом, приехавшим в гости к нам в Духовную Академию. Он искренне признался, что иконопочитание у них люди не понимают. На самом деле, это не просто и не только непонимание, обусловленное общим контекстом культурной традиции Запада, но специфика духовности, органично связанной с богословской неполнотой любой общины, которая не есть община Православной Церкви. Это вывод, который в том числе приходит к нам из простого наблюдения за характером памятников христианского искусства и зодчества. Если эту тему разрабатывать более детально, то можно было бы здесь найти сокровище для апологетики, сокровище неисчерпаемое.
Игумен Александр (Федоров)
Богословие Образа как свидетельство синонимичности слов «Православие» и «Церковь»: Доклад на III-ей Международной конференции С.-Петербургского института православной иконологии, 22.09.2006 // Св. Троица преподобного Андрея Рублёва в свете православного апофатизма. Иконоборчество: вчера и сегодня: Сб. Выпуск № 2. Сост. Васина М.В. СПб., 2007.